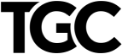Спустя пять лет после выхода книги «Развлекая себя до смерти» Нил Постман выступил с речью перед Немецким обществом информатики, в которой развил свою концепцию «соотношения информации и действия». В своей речи под названием «Информируя себя до смерти» Постман рассказал о том, что для среднего человека в 1990 году «информация больше не имеет никакого отношения к решению проблем». То, как он это описал, с таким же успехом можно описать и среднестатистического человека в 2025 году:
Связь между информацией и действием разорвана. Информация стала товаром, который можно купить и продать, использовать в качестве развлечения или носить как одежду, чтобы повысить свой статус. Она поступает без разбора, не направлена ни на кого конкретно, не связана с полезностью; мы перенасыщены информацией, тонем в ней, не контролируем ее, не знаем, что с ней делать…Наши защитные механизмы против информационного перенасыщения сломались; наша информационная иммунная система неработоспособна. Мы не знаем, как ее отфильтровать, мы не знаем, как ее уменьшить, мы не знаем, как ее использовать.
Помните, Постман заметил эту проблему «информационного перенасыщения» в доинтернетную эпоху. Насколько больше мы перенасыщены информацией сегодня? Если тогда у нас не было хорошей защиты от «информационного иммунитета», то сейчас нам приходится еще хуже – особенно в эпоху ChatGPT, фейков, кампаний по политической дезинформации и вызванного ими эпистемологического кризиса. Информационный кризис, с которым мы сталкиваемся, по меньшей мере троякий: слишком много информации, которая движется слишком быстро и алгоритмически адаптирована, чтобы быть слишком сфокусированной на себе.
В некотором смысле «быть информированным» – это скорее пассив, чем актив в современном мире. Качество информации, поступающей через цифровое посредничество, просто не заслуживает доверия.
Распространенные побочные эффекты чрезмерной информированности
Что происходит с нами, когда мы слишком информированы, но недостаточно активны? По моему опыту и наблюдениям, возникают некоторые общие побочные эффекты.
Мы становимся тревожными. Когда на наши души постоянно обрушивается множество новостей о катастрофах, несправедливости и апокалиптических заголовков, мы, естественно, чувствуем тревогу и напряжение.
Мы злимся. Повышение кровяного давления и бурлящий гнев следуют за тем, что мы постоянно подвергаемся пристрастному воздействию кликбейта, провокаций троллей и других форм глупой болтовни.
Мы становимся зависимыми. Алгоритмы легко вычисляют, перед какими видами информации мы не можем устоять. Вскоре мы прокручиваем и кликаем, как наркоманы, не в силах устоять перед пьянящим соблазном наших любимых жанров «новостей», мелочей или сочных сплетен.
Информационный кризис, с которым мы сталкиваемся, имеет как минимум три причины: слишком много информации, которая движется слишком быстро и алгоритмически адаптирована к тому, что мы слишком сосредоточены на себе.
Мы оцепеневаем. Информационная диета, оторванная от ощутимых действий, делает информацию абстрактной и сюрреалистичной, оторванной от нашей реальной жизни. В конце концов, заголовки о страшной массовой стрельбе становятся тем, что мы прокручиваем мимо так же случайно, как и фото из отпуска друга.
Мы становимся одинокими. Когда мы проводим большую часть жизни, просматривая цифровую информацию, далекую от местных, воплощенных сообществ – даже если это информация, которую мы обсуждаем с другими людьми в Интернете, – мы становимся более одинокими. Онлайновые авторитеты, к которым мы прислушиваемся, или аватары собеседников, с которыми мы ожесточенно спорим, вряд ли заменят нам сообщество знающих и знаемых, в котором мы действительно нуждаемся.
Мы становимся заблуждающимися. Из-за алгоритмической формы информации сегодня никто из нас не живет в одной и той же информационной вселенной. Мы все видим вещи по-разному, подстраиваясь под свои предпочтения и предубеждения. Естественно, это еще больше укореняет нас в эхо-камерах, углубляя нашу уверенность в собственной правоте (как бы мы ни ошибались).
Мы становимся оторванными от реальности. Кумулятивный эффект всего вышеперечисленного заключается в том, что чрезмерно информированная жизнь становится псевдореальной. Когда осведомленность преобладает над действием, а мы больше руководствуемся повествованиями, чем реальностью, наше восприятие мира становится все более сюрреалистичным.
Возможно, К. С. Льюис лучше всего выразил это в письме к другу, где он сетует на динамику разрыва между информацией и действием:
Одно из зол быстрого распространения новостей заключается в том, что горести всего мира приходят к нам каждое утро. Я думаю, что каждая деревня должна была жалеть своих собственных больных и бедных, которым она может помочь, и сомневаюсь, что долг любого частного лица – зацикливаться на бедах, которым он не может помочь. (Это может даже стать бегством от дел милосердия, которые мы действительно можем сделать для тех, кого мы знаем). Сейчас очень многие считают, что само по себе состояние озабоченности заслуживает внимания. Я так не думаю.
Льюис не только прав, когда оспаривает социальные заслуги «простого состояния беспокойства» (то есть социальный капитал осознания), но и попадает в точку, когда говорит, что нам следует избегать зацикливания на проблемах, которые мы не можем решить. Это не только отягощает нас всеми вышеописанными способами, но и отвлекает от локальных проблем, которые мы можем помочь решить.
Пренебрежение местным
При всей энергии, которую мы тратим на то, чтобы следить за событиями в мире, мы можем пренебречь людьми, которых мы можем любить, и проблемами, которые мы можем решить в наших собственных дворах. Для христиан, призванных любить ближних и на деле добиваться милосердия и справедливости, это и есть суть того, что не так с несбалансированным соотношением информации и действия.
Наша массовая информационная среда такова, что среднестатистический молодой человек XXI века может рассказать вам о национальной политике гораздо больше, чем о местной. Он вырабатывает устойчивое мнение о кандидатах в президенты и делах Верховного суда, но не может назвать имя мэра или члена городского совета в своем городе, а также определить наиболее острые проблемы, стоящие перед его ближайшим окружением.
Состояние нашей массовой информационной среды таково, что среднестатистический молодой человек XXI века может рассказать вам о национальной политике гораздо больше, чем о местной.
Из миллионов представителей современного поколения молодежи, которые в июне 2020 года (#blackouttuesday) в знак протеста против жестокости полиции разместили в Instagram простой черный квадрат, сколько из них когда-либо общались с полицейским в своем районе?
Онлайн-акции с хэштегами имеют благие намерения. И, возможно, вирусная сила таких «коллективных онлайн-действий» имеет значение. Но, как отмечает Льюис, опасность заключается в том, что такие акции «становятся бегством от дел милосердия, которые мы действительно можем совершить по отношению к тем, кого мы знаем».
Есть много причин, по которым каждый должен стремиться к более сбалансированному соотношению информации и действий. Это поможет вашему психическому здоровью и закрепит вас в местной жизни и воплощенном сообществе. Христианам, в частности, это напомнит о ваших ограничениях и укрепит ваше доверие к суверенному Богу, который всеведущ так, как вы никогда не сможете. И это откроет более плодотворные пути для любви к ближнему и верного свидетельства в том месте, где вас поселил Бог.
Это адаптированный отрывок из книги «Листать до смерти: Восстановление жизни в цифровую эпоху», под редакцией Ивана Месы и Бретта Маккрэкена (TGC/Crossway, апрель 2025).